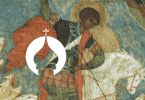Наша Русская Зарубежная Церковь вызывает уважение сохранением традиций благочестия и литургической жизни. Мы стараемся выполнять то, что относится к нашей вере – участвуем в таинствах, соблюдаем посты, молимся дома и в храме, стараемся так же воспитывать детей. Но ведь христианская вера является через наши дела. Как мы заботимся о священнослужителях и нуждающихся членах нашей же Церкви? Об этом социальном служении мы беседуем с протоиереем Ильей Лимбергером, из Свято-Николаевского собора в г. Штутгарте.
О. Илья, в 90-е годы, когда железный занавес рухнул, то наши церкви должны были реагировать на нужды людей. И некоторые просто оказались не готовы. Вот в одном приходе даже было такое объявление, что «Церковь НЕ: помогает с ночлегом, с работой», с какими-то еще именно практическими нуждами. То есть из этого реконструируется такая модель, что вот молиться, духовные нужды – этим пожалуйста, мы этим занимаемся, а вот заниматься тем, чтобы устраивать кого-то на работу или как-то людей ориентировать в новых условиях – на это у нас нет возможностей. Прокомментируйте, пожалуйста, такое настроение, такую позицию?
С моей точки зрения, однозначно: социальное служение вытекает из самой природы литургической жизни церкви, из понимания Священного Писания обоих Заветов. Достаточно указать на то, что «праведность» – по крайней мере, в Ветхом Завете, я думаю, что и на языке Нового Завета в то время это тоже имело место, – «праведность» и «благотворительность» являются однокоренными словами. Праведник – «цадик» Ветхого Завета, благотворительность – «цдака», того же корня слово, и думается, что не случайно древний еврейский язык, иврит, – и сегодняшний тоже, собственно говоря, – соединяет эти два понятия: праведности и благотворительности. Мне кажется, что если с этой точки зрения прочесть центральные книги Ветхого Завета – Псалтирь, например, которая служит фундаментом всей молитвенной жизни христианской церкви, то мы увидим, что, без сомнения, в молитвенной жизни этих понятий не избежать. Поэтому мне кажется, что это какое-то недоразумение – такое явление, и насколько я могу судить, такие понятия воспринимаются в их библейском контексте и в историческом контексте Церкви. Да, конечно же, Церковь, исходя из своей молитвенной, евхаристической природы, всегда занималась благотворительностью. Другой вопрос, конечно, насколько эта благотворительность организована, что ли, насколько она институционизирована – так скажем, да? Тут могут быть, конечно, разные подходы, может быть чисто на приходском уровне, когда приход изыскивает те или иные возможности помощи. Ну, например, я помню еще в начале 90-х годов, когда Россия действительно нуждалась, народ в России нуждался в конкретной материальной помощи, как во многих приходах, – я помню франкфуртский приход у нас в Германии просто огромными фурами, целыми тоннами, грузовиками организовывал материальную помощь в Россию. Сегодня это Украина, Восточная Украина в первую очередь, но не только, а и вообще Украина, где люди действительно нуждаются в помощи, особенно обездоленные слои населения. И люди собирают такую помощь. Но это может быть, конечно, и более организованная помощь. Например, у нас в Германии существует уже несколько лет такая довольно разветвленная организация под названием «Доброе дело». Она ставит себе целью помощь тяжелобольным детям и их родителям, которые приезжают из России, Украины и Белоруссии на лечение в Германию и оказываются зачастую в незнакомой языковой и социальной среде, с тяжелобольным ребенком на руках, и, конечно, нуждаются во всяких разных образах помощи – социальной, переводческой, просто с ребенком поиграть, занять его чем-то, сводить в зоопарк, организовать отдых родителям, развлечения. Это включает в себя, естественно, и присутствие духовного окормления, контакт с приходом и т.д.. Но мне кажется, что это проистекает из самой природы Церкви.
Эта церковная организация, о. Илья? Она связана с Русской Зарубежной Церковью?
Конечно, конечно, это церковная организация.
Очень рад слышать. Я не знал об этом.
Да, это замечательное такое дело. Мне довелось участвовать в нем с самого начала. Там множество людей – у нас есть координатор по всей Германии и больше, далеко на самом деле, за границей, за границами Германии существует: есть точки и во Франции, и в Швейцарии, и в Бельгии, и в Голландии. По всем крупным городам существуют волонтеры, которые принимают в реальном режиме родителей и детей, которые приезжают на лечение в Германию, и о них заботятся. В каждом большом городе, да и в небольших городах существуют волонтеры именно при приходах, волонтерские группы, которые ставят себе целью помощь этим людям – разнообразнейшую помощь, да? При том, что собственно сбором средств на лечение мы стараемся не заниматься, поскольку скорее это дело фондов в странах проживания – в России, Белоруссии, Украине, а мы скорее осуществляем поддержку на месте. Ну, отчасти немножко это касается и средств, но большей частью это окормление, переводы, социальная поддержка, объяснение, контакты, разговоры с врачами, с персоналом… Это все на чисто волонтерской основе.
Тогда получается, о. Илья, как я вижу, огромный отклик на удачно сформулированную задачу? Она понятна людям и нашла очень широкий отклик, да? При этом существует тоже наша определенная церковная реальность: ну, никто ничего, может быть, не предлагает, поэтому люди просто довольствуются тем, что они ходят в храм и слава Богу. Соблюдают весь богослужебный цикл – и все. В чем тут проблема? Я не слышу о таких фондах, но я вижу именно вот эту картину: что быть православным – значит ходить в храм, участвовать в таинствах, а остальное – это уже дело каких-то отдельных людей. Помогать – не помогать, жертвовать – не жертвовать, это уже не обязательно.
Да. Ну, действительно, это такая картина, которую мы в основном наблюдаем. Естественно, что вот такая активная благотворительность всегда остается уделом меньшинства. Может быть, не должно так быть, но по опыту это так, особенно в эмиграции. Людей можно понять: они заняты. Ну, конечно, эмиграция накладывает определенные… трудности на человека, на семью. Нужно справиться с вхождением в новый для себя мир. На это уходят многие-многие душевные силы, не говоря уже о материальных. И только начиная со второго-третьего поколения у людей уже появляются, в более общем порядке, силы на что-то другое. Однако наряду с этим всегда существуют люди, которым не хватает только лишь участия в богослужении – это участие такое полу-анонимное – и которые чувствуют себя призванными к большему. И мне думается, что приходы и епархии должны ставить перед собой вот такие задачи.
У нас в Германии просто сложилось, что вот есть задача, скажем, работать с такими детьми, которые приезжают, особенно в какие-то центральные места, скажем, в клиники в Мюнхене, или в Штутгарте, в Тюбингеме, в Гейдельберге – это такие университетские клиники, крупные медицинские центры. Люди стремятся туда, и сама жизнь ставит перед нами такие задачи. И я думаю, что Церковь в более организационном порядке должна откликаться на те задачи, которые жизнь перед ней ставит. Помимо того, мне кажется, в такую социально-благотворительную область церковной жизни входит, конечно же, и забота о детях и молодежи. Мне кажется, что это очень важная сторона церковной деятельности. И организация не только церковно-приходской школы, но и более широкого, смежного спектра занятий с детьми и молодежью. К ним относятся детские и молодежные летние лагеря, семинары по молодежному лидерству, съезды, встречи, организации на церковной базе молодежных мероприятий, памятных дней, походов. Я думаю, что это все относится к церковно-приходской работе, которая, естественно, выступает за рамки чисто богослужебной деятельности, понятное дело: если ты берешь тридцать детей и везешь на три недели в летний или зимний лагерь, то, конечно, тут не только богослужение играет роль, но и педагогический подход и педагогическое усилие, педагогическое стремление. Или если ты организовываешь, предположим, съезд молодежи, то это дело уже всей епархии: не только на одном приходе это происходит, но и выходит за рамки прихода и действует по всей епархии. Епархии и приходы должны перед собой ставить такие задачи. Опыт есть, и в Америке он есть, и вот тут у нас в Европе уже, в общем-то, есть, и мне кажется, что это тоже относится к социальному служению.
Нельзя недооценивать еще следующий момент. Дело в том, что – по крайней мере исходя из моего опыта жизни в Германии – местные христианские общины, т.е. Евангелическая церковь и Католическая церковь, несмотря на очень серьезное ослабление духовной жизни, тем не менее, благодаря той обширнейшей социальной деятельности, которую им удалось развить в течение последних, скажем, ста лет, обе эти Церкви являются незаменимым членом общества и государства. Нельзя недооценивать тот момент, что церковь людьми около- или даже внецерковными оценивается не по своему укладу богослужебной жизни, не по своему накалу духовной жизни, а оценивается именно по своей благотворительной деятельности. Церковь, я думаю, не может не обращать внимания на вот такую оценку. И собственно, Господь не давал нам повода равнодушно относиться к оценке внешней по отношению к Церкви людей или общественных сил. Говорят, например, что внешние должны видеть добрые дела и восславлять Отца Небесного, да? Думается, что если бы Господь хотел, чтобы мы только молились, то Он сказал бы – наплевать на то, что о вас думают, молитесь и всё. Но нет, Он как-то обращал внимание на то, по каким критериям нас будут судить внешние по отношению к Церкви люди, и считал эти критерии весьма достойными даже. И указывал нам, собственно, на эти критерии. Поэтому, я думаю, из этого нельзя так выбраться. Мы обязаны, какими бы духовными людьми мы ни были, соблюсти таким образом, скажем, имидж Церкви в обществе…
Спасибо, о. Илья. Я тоже думаю, что наши священники, естественно, стараются стремиться к социальному служению внутри общины. Например, если у священника есть состоятельные прихожане и у него есть человек, который нуждается, то, наверное, священник может тогда сказать: «Знаешь что, мы причащаемся из одной чаши, у нас брат или сестра не могут, допустим, какой-то платеж внести за дом или что-то, мог бы ты помочь?» Потому что мы говорили о внешнем аспекте, а есть еще сильный внутренний аспект – как мы вообще относимся к тем, с кем мы причащаемся из одной чаши? Мы собираемся, и впечатление часто такое, что просто мы собираемся по своим нуждам все вместе, и потом мы расходимся и – насколько мы знаем, что происходит у другого? Вот Вы говорили о молодежи – это один слой. А есть одинокие люди среднего возраста; есть пожилые люди – еще одна категория. Это всё разная пасторская специфика, пастырское окормление. Насколько обращается внимание на вот этот социальный аспект внутри прихода и помощь – и социальную, и иную? По аналогии с помощью к приезжим, допустим, из других мест в Германию? Что происходит в этом отношении со своим же приходом? С теми, кто ходит к тебе в приход?
Ну, тут мне, конечно, трудно судить, я не знаю, как это происходит во многих приходах, но принципиально, конечно, это правильно. Естественно, что такая благотворительность должна в первую очередь быть направлена на внутренние нужды. И этому, мне кажется, существует масса замечательных примеров. И как раз на днях мне было радостно слышать, как один приход создал… ну, такой маленький супермаркет для нужд своих собственных прихожан. При том что продукты или деньги на закупку этих продуктов жертвуют одни, а покупают там или приобретают бесплатно эти же продукты другие.
Это Зарубежная церковь или нет?
Нет, это Греческая.
Это у греков, это в их кризисе они сейчас [так] помогают [друг другу]? Понятно.
У них, например, вот таким образом, замечательно, да?. Ну, у меня нет систематического знания о том, что происходит в приходах, но из различных сообщений, которые до меня доходят, мне кажется, что это как раз существует.
Отзывчивость есть?
Ну, такая не систематическая, по потребности, работа на приходах для собственных нужд прихода, мне кажется, все-таки существует. Мне думается, что это есть. Не знаю, какой американский опыт, но наш немецкий, германский опыт, насколько я знаю, – на приходах это все-таки есть. Если что-то попытаться систематизировать – вот, например, аспект многодетных семей. Ну, поскольку я сам такой многодетный отец, то я знаю, что многодетная семья – это такая машина по уничтожению любых количеств денег. Это как печка такая: сколько в нее ни мечи лопатами, она все съест и не подавится. И я думаю, что в задачи прихода входит поддержка своих многодетных семей. Эта поддержка может в разные формы выливаться, естественно.
Я вижу сейчас что-то другое: что в задачи прихода входит поиск монахов или одиноких священнослужителей – это новое направление (смеется).
Чтобы поменьше их содержать и поддерживать?
Да, это то, что я слышу – такие пожелания от старост, от людей…
Это, я думаю, немножко близорукий подход, близорукий подход. Потому что там, где священник на приходе бездетный, там вот эта жизнь не развивается. Потому что я помню, как я начинал: я попал на приход, у меня было двое детей, потом родился третий, четвертый, пятый ребенок, и мотивация заниматься детской и молодежной работой в большой степени обуславливалась собственными детьми. Да? Хочется для собственных детей организовать… курс русского языка, летний лагерь, знакомство с другими православными детьми, да? А если таких нету – собственных детей?.. Ну, не знаю, найдется ли у священника тогда мотивация заниматься такими вещами, или он скажет: «Ну, буду служить себе потихоньку, и ладно»?
Да, это действительно взаимосвязано, это как бы побочный продукт получается.
Да, мне кажется, по крайней мере, может быть, это у меня такой вот особый эгоизм с моей стороны, но добрая половина моей мотивации последние двадцать пять лет заниматься детской и молодежной работой – это мои собственные дети, их включение. Я хотел бы, чтобы они имели православное общество среди своих сверстников. А для этого это надо это организовать, это православное общество. Надо школу, надо какие-то «развлекухи», так сказать (смеется).
Насколько, о. Илья, у вас однородный приход в языковом отношении? Вы ориентируетесь на традиционную модель – что люди получают, грубо говоря, тот же продукт, что они получают в России? Или вы ориентируетесь тоже на немецкий сегмент прихода? Есть ли таковой? Какой состав прихода в Штутгарте сейчас?
Взрослые в основном русскоязычные, так что в чисто приходской жизни в основном, конечно, преобладает русский язык у нас. Что касается детской и молодежной работы, то постепенно все съезжает на немецкий. Если еще лет пятнадцать назад наши лагеря проводились в основном по-русски, то сегодня это в основном немецкий. Вот сейчас я только что вернулся, еще недели не прошло, из летнего лагеря, где все в основном было по-немецки: уроки по-немецки, рассказы по-немецки, чтение по-немецки, молитвы… ну, мы молимся на русском и на немецком, но большинство детей в русском языке очень слабые. То есть однозначный сдвиг, который мы как приход не можем остановить, и какой-то реализм мне подсказывает, что мы должны будем все больше и больше говорить по-немецки. В принципе, ресурсы для этого есть, у нас богослужебные и прочие переводы все на месте, мы ни в чем в этом отношении не нуждаемся, проблем на самом деле никаких нет – только желание, и вперед. Что касается молодежных лидеров, то уже выросло поколение тех, кто приехал в очень раннем возрасте, то есть сегодняшние двадцатилетние, двадцатидвухлетние молодые ребята, которые у нас задействованы, все выросли и социализированы в Германии, и с немецким никаких проблем у них нету. Так что все переползает, конечно, на немецкий язык. По крайней мере у меня лично нет ни сил, ни особой мотивации этому так резко сопротивляться. И так оно и идет.
Вот еще такой вопрос: почему люди не жертвуют, нету такой поддержки? Вот у нас, мне кажется, понимание о жертве: вот идет сбор какой-то, тарелка проходит, ну, ты что-то положишь, и вот это все. А сколько реально это стоит… Вот монастырь, где я служу: электричество; то, что служащие ничего не получают, об этом даже речи нету; потом обед примерно на сто, сто пятьдесят человек. Все это каждую неделю. В западном обществе это все нужно откуда-то брать, никто тебе это не поставит. И при этом у меня нету ощущения, что люди думают об этом, о том, что это наше – раз мы сюда ходим, значит, мы должны как-то вкладываться. И мне кажется, что это такая общая настроенность: у нас нету такой культуры – о том, чтобы жертвовать, чтобы участвовать тоже по возможности. Или это связано с тем, что люди сами выживают, может быть, они не могут помочь ничем, я не знаю.
Тут, действительно, я полностью согласен. У нас в этом отношении, если можно в этом плане говорить о культуре, – это, конечно, не совсем подходящее слово, – но действительно, нету или недостаточно культуры финансовой поддержки общего дела. Я очень хорошо знаю сербов, например, у меня матушка из Сербии и я хорошо говорю по-сербски; я хорошо знаком с Сербской Церковью, как на родине, так и в Германии. И сербы в этом отношении русским в каком-то смысле даже противоположны. Скажем, сербы сначала строят то, что они называют «кафан», то есть ресторанчик, а потом уже вокруг него церковь, в которую они в общем не очень-то ходят, но церковь поддерживается полностью. И духовенство, и здание, и весь вход в жизнь – все это существует на пожертвования прихожан; в то время как богослужебная благочестивая жизнь для любого русского начетчика-буквоеда – это просто ад какой-то, ни тебе платочков, ни юбочек, все «шаляй-валяй», как говорится.
Теща одного моего студента, серба попала на русскую службу в Сан-Франциско, и она смотрела с открытым ртом на весь этот т.с. литургический балет, для нее это было что-то такое запредельное. Потому что, как я понимаю, у них как вышли, так и вышли, что надел, то надел – один в зеленом, другой в красном.
– Точно! (смеется).
А для зарубежной ментальности это просто, как металлом по стеклу. Но при этом там у сербов люди молятся Богу и никого не убивают за то, что человек пропустил свой поворот или что-то такое, слава Богу.
Да, да. Я думаю, что Господь всех русских начетчиков примет в рай, конечно, всех их благословит и поселит их в сербском отделе рая (смеется). Не знаю, будет ли это для них раем (смеется), будут думать, что оказались в аду просто. И вот мне кажется, что истина где-то посередине, и я думаю, что, конечно, русским не хватает такого воспитания, что «это наше общее дело, мы должны содержать здание, мы должны содержать место, где люди могут пообедать, мы должны содержать место, где наши дети могут получить уроки русского языка, закона Божия, музыки, рисования и т.д., и за все это надо платить – за помещение, за бытовые услуги, за поддержание, за персонал, который этим всем занимается». И вот такая ментальность, что «раз мы в церкви, то все должно быть бесплатно», я считаю, что это просто грех какой-то, просто порок, порок нашей жизни. Я думаю, что, может быть, это с советских времен еще осталось, я не знаю, откуда это происходит, но я считаю, что это порочно и это необходимо изживать.
Две модели в Америке, две Церкви в одинаковой «весовой категории «по количеству людей: Сербская Церковь и Русская Зарубежная Церковь. Появились обе в массе своей после Второй мировой войны, стартовали одинаково, можно сказать. У сербов у духовенства есть пенсии, у них материально нет такого острого бедственного положения, как у РПЦЗ, которая во многом стала притчей во языцех – как живут батюшки Русской Зарубежной Церкви. И вот пожалуйста – в чем тут дело? Нельзя это объяснить тем, что сербские прихожане были все невероятно состоятельные. Эмигранты начали одинаково, но вот сейчас они пришли к разным результатам…
Да. Я думаю, что есть определенное благородство, наверное. И те священники, которые так бескорыстно или как настоящие бессребреники трудятся, – конечно, Бог им в помощь, трудно что-то возразить. Но как институт – мне кажется, что надо это изживать, это мое мнение. То есть как церковный институт вот такого бессребренничества – мне кажется, что это неправильно, педагогически это совсем неверно, это как воспитывать детей в полной такой «халявности». Это как в семье, где ты детям даешь и ничего от них не требуешь – ни чтобы они убрали за собой на кухне, ни чтобы помыли посуду, ни чтобы они убрали свою кровать и свои ботинки поставили на полку – просто чтобы самому полностью как папа или как мама все делать за них. И наслаждаться своей такой великой жертвенностью. Мне кажется, что педагогически это – порочный путь. Какие-то отдельные случаи – Бог им, конечно, в помощь и вечная слава, но как путь церкви, мне кажется, это неприемлемо с педагогической и с человеческой точки зрения… по-моему, это нечестно. И там, где присутствует такая нечестность, там червоточина: яблоко красивое, но какой-то червяк в нем сидит и его сгрызает.
Тогда, о. Илья, отсюда можно перейти к такой проблематике – работающего духовенства. Другая модель тиражируется постоянно, самовоспроизводится: что приходы заключают трудовое соглашение со священнослужителем. Соответственно, как они договорятся, так договорятся. И во многих случаях священник должен работать. Бывают ситуации, когда какая-то миссия – не подразумевается, что она сможет содержать священника. Но вот в целом что за и что против работающего духовенства? Вот такой вопрос.
По моему скромному опыту, я бы сказал, что работающее духовенство, конечно, может иметь место – действительно, на миссионерском приходе, на приходе, который только открылся и развивается, где молодой священник, который через это может получить определенный кругозор в местном обществе, в социуме. Т.е. лет десять проработав таким образом, он, конечно, получит хороший опыт социальной жизни в своей стране. Но опять-таки, возводить это в правило, я считаю, порочно. Могут быть отдельные случаи и оставаться отдельными случаями, но ни в коем случае не как правило. Священник, который служит на полнокровном приходе и который имеет амбиции – в хорошем смысле этого слова: создать полнокровный приход с разнообразными сферами деятельности, приходской и даже внеприходской в некоторой степени, – конечно, должен иметь свободные руки и свободный тыл для того, чтобы всем этим заниматься. Никак невозможно создать полнокровный приход, в котором несколько сотен, предположим, семей находят свой дом – с детьми, с работой со взрослыми, с разными языками, с пожилыми людьми, с каким-то образовательным направлением – без того, что священник свободен от мирской работы. Это просто какое-то заблуждение и иллюзия, которую мы должны изжить в конце. Самообман просто – будто священник должен иметь 48 часов в день, и 24 из них работать, и 24 посвящать приходу – по-моему, это просто обманывать себя и врать себе самому.
Тут, мне кажется, бывает, что люди, которые поддерживают жизнь прихода, люди, может быть, более старшего поколения – их это устраивает, потому что такой формат интенсивности – для них это вполне приемлемо. Если развиваться, то у людей, у приходского совета это вопрос, это вызывает опасения: мы можем надорваться, мы можем, как говорится, дистанцию не пробежать, зачем нам это нужно? Новое всегда несет какие-то опасности. А вот поддерживать такой статус кво, совершать богослужения, хоронить, ну, может быть, венчать когда-то – ну и хорошо.
Правильно, такое… болотце, конечно, возможно в любом месте, и в приходе в том числе, но провозглашать это как церковный или епархиальный идеал – даже смешно. Это опрометчиво, потому что как раз активное духовенство, которое есть в любой епархии, должно этому сопротивляться.
То есть реальные проблемы, с которыми надо бороться просто?
Конечно.
И вот такой последний вопрос, о. Илья, у меня – о записи в приход. Я не знаю, как в Штутгарте, в Германии вообще с этим дело, но тут в Америке я постоянно слышу, что жалуются, что люди из России, скажем, не записываются. Они как-то по-другому видят эту проблему: люди готовы ходить в один храм, готовы жертвовать свое время, даже готовы что-то жертвовать целевое, но вот записаться в приход – тут есть что-то, что людей отталкивает. В чем тут дело? Какое у Вас видение в связи с этим?
Мне кажется, что вот до этой последней эмиграции девяностых годов, по крайней мере в Германии, люди, хоть бедно, записывались в приход – именно в членство прихода, а уже потом новая эмиграция просто… Дело, мне кажется, тут в ментальности, понимаешь? Членство – это официоз какой-то, да? – люди не хотят. Действительно, в России такой практики не существует. Многие – так или иначе, в большей или меньшей степени – воцерковились и попали в церковь в России. Там такой практики не было и нет. Никакой записи не существует. С другой стороны, у нас, конечно, есть Нормальный приходской устав, в котором эта запись прописана. То есть в некоторой степени церковный устав противоречит реальности. Мне кажется, что когда устав входит в противоречие с реальностью, то все-таки реальность должна преобладать, и нужно находить другие способы членства или учета. Могу привести пример – мы не записываем в члены прихода, мы просто просим регулярные пожертвования, в частности, на фонд священников. Мы из этого фонда сейчас можем кормить двух священников на жаловании у нашего прихода, ну и плюс еще какие-то дополнительные доходы. И все это существует с регулярных пожертвований многих десятков – по-моему, свыше восьмидесяти – семей, которые у нас регулярно жертвуют. Причем мы именно взываем, просим людей жертвовать на фонд духовенства, и они понимают, что это надо. Действительно, священник у нас, как сказать… у нас около двухсот крещений в год, это почти каждый день у нас крещения, если так собрать в среднем. Когда это делать? Плюс, плюс, плюс… Это все у нас описано в воззвании, которое мы составили, и вот это прихожане понимают, они понимают, что вот это делается, это перед их глазами происходит, не какое-то абстрактное членство, но реальная помощь. Но через это они становятся и членами прихода. То есть наш приходской устав требует, чтобы формальные члены прихода, т.е. те, которые могут быть выбраны и могут выбирать в церковно-приходской совет, чтобы они регулярно платили вот такие членские взносы. Но мы это не называем членскими взносами, мы их называем вот таким вот фондом священника или другим каким-нибудь фондом, и они автоматически таким образом выполняют критерий церковно-приходского устава. Мне кажется, что это больше соответствует менталитету.
Чем если бы была формальная процедура?
Чем процедура членства собственно.
То есть когда на приходском собрании объявляется, что такой-то-такой-то подал прошение и хочет стать членом прихода?
Да. Этого мы не делаем. И я лично это хорошо понимаю, т.е. я чувствую ментальность людей: вот это членство – это какой-то официоз для них. Как членство в парторганизации, и им там это не нужно было, и здесь им это и подавно не надо. Реально пожертвовать и подписаться, что я жертвую 50 евро в месяц, пожалуйста, снимайте их со моего счета на фонд духовенства ежемесячно – это они понимают, это надо.
Понятно. И у них не возникает таких вопросов, что «может быть, батюшкам и так неплохо, и вообще зачем им платить и т.д.»? Они позитивно к этому относятся?
Да, да, да. Ну, конечно, была проделана определенная работа по убеждению, ну и потом, это же налицо! Да любой батюшка, который имеет возможность не работать, – он полностью погружается в приход, вообще засасывается. Любой священник, который находится на жаловании у прихода, – он будет вертеться день и ночь, хватит работы на всех. И прихожанам это видно – вот он стоит там по 15-20 часов в неделю на исповеди, еще 20 часов крестит, венчает, еще 20 там ходит по тюрьмам и больницам и еще где-то. Это видно.
Ну, это действительно такой динамичный приход, потому что я другое слышу как раз, другую оценку – что прихожанин говорит: «Ну что, – говорит, – батюшка? Ну, он постоит два часа в субботу, в воскресенье постоит. А сколько мы ему платим? А я работал на заводе вот столько-то часов и получал меньше, чем он!» Такие подходы…
Ну, я думаю, если всмотреться… Так просто сказать, конечно, можно, но если всмотреться, то все же это не ограничивается четырьмя часами, отстоять…
Да. А как получается до двухсот крестин? Эти люди становятся потом прихожанами? Это из-за того, что штутгартский приход окормляет большой район?
Большой район, конечно, это большой район, это окрестности где-то 50, а то и 70 километров в радиусе, много народу. Ну конечно, – я думаю, что это любой приход может подтвердить, – активными из этих двухсот становятся, может быть, от пяти до десяти. То есть на самом деле КПД небольшой, нужно очень много вертеться, чтобы что-то навертеть (смеется).
Понятно. У нас в Джорданвилле вчера крестили девочку, и сегодня мама ее принесла причащать. Девочке уже, наверное, годика три, и мы ее причащали, и я спрашиваю маму: «Вы будете причащаться?» Она говорит: «Нет, я уже крестилась!» То есть она это воспринимает, как бы часть этого «набора» – ей сказали на следующий день после крещения надо причастить ребенка, а ей этого не надо, потому что она уже крещена.
Да, это стандартно, это стандартный такой ответ. И с этим мало что можно поделать. У нас заведены и беседы, и катехизация – и для взрослых у нас длительная катехизация. И тем не менее, ну пока вот… Действительно, то, что Господь говорит в Евангелии: «Никто не может прийти ко Мне, как если только его Отец Мой Небесный не призовет». Это действительно призвание, и ты против него ничего не сделаешь.
Интересно! О. Илья, давайте мы на этой точке остановимся и продолжим, Бог даст, следующий сюжет, посвященный уже другим важным темам.
Беседовал диакон Андрей Псарев